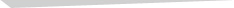Ты бы воочию видел, как вяжутся черти в жгуты,
если б покойный мой батя политику вёл, как ты.
Но в день, когда пёстрой визой отмечен был мой банкет,
ты появлялся на этот полный маразма свет.
Когда меня папа встретил, ты мило справлял пять дней –
пускай лопоча, но не зная комфорта чужих саней,
а то и конкретно мысля: «Америка и стихи?
Не верю. Вернётся – скажет, насколько прошёл в верхи».
Я карту своих угодий тайком от отца чертил:
отдушины он задраил по смёточных швов пунктир –
аж след себе пропечатал задраечного болта
на карликовых загрёбках… А тут тебе бац! – мечта.
Пластинками без иголки я лихо его допёк,
когда моему мессии тринадцатый шёл денёк.
Хозяин дворца с машиной бледнел, психовал, вспухал –
да так и не рассосалась в нём боль моего стиха.
Я видел: есть Вознесенский, Ваншенкин и Доризо.
Вписался бы органично – вдобавок без тормозов,
но… туфли другие надо, повадки, привычки, кровь –
не тот, понимаешь, камбий у дерева под корой.
…Меня б уже выносили вьетнамками к фонарю,
когда б не нашёл твой храм я – знаю, что говорю.
Как раз вот таким я видел себя в тот далёкий год,
и – надо же! – состоялся без колледжей и хлопот.
Отцу ничего не стоило принять твой сигнальный писк:
не назидать ролей, будоража рыбачий пирс,
а просто не класть в одну телегу бревно и клён,
который сусальной известью в зубцах листков опылён.
Не стал я брутальным дядькой – а значит, спасибо, друг!
Есть сцена, есть микрофон – и глотку я не деру,
и зал понимает смысл моей неспортивной ходьбы,
и воскресает личность, записанная в рабы. |