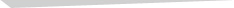Сутки хотя бы страдал златолюбец Мидас?
Мой-то стальной адъютант превратился в еду,
а своего напрокат даже дворник не даст,
будучи после работы в похмельном бреду.
В прежние годы, стройнёшенек и деловит,
я порывался оковы свои перегрызть…
Знать бы мне, что Дионисиха возноровит
в медленно тухнущий плов обратить мою жисть!
Встал, потянулся к носкам – ан… галушка и кекс.
Взялся за дверь туалета – ах, чтоб тебя змей!..
Втиснули душу меж двух равносильных аскез –
тыквенной кухни и летней резины к зиме.
Страсть – не свекруха, и тянет обнять дружбана;
враг же от мести моей убежал, как назло,
а вдоль дорог бесконечные копны пшена
силятся мне заменить всё, что еле ползло.
Помнится, батя при Брежневе не голодал.
Вряд ли он смылся в Америку ради жратвы.
Есть что-то свыше, чего я не понял, балда,
под меховым декольте престарелой совы.
Если б ещё на границе сказали ему:
«Автомобиля не будет, хоть круть, хоть курлы», –
сдал бы билет и запрягся в привычный хомут,
и до кремации были бы плавки малы.
Только туманность Мидаса пока не зажглась:
моль по атласу снуёт, зеленеет парча;
местного бога пустот обращён ко мне глас:
«Так і шукай свій візок, як старе потерча…»
Зори, насупив бруснично-гуашевый фон,
обволокли меня маревом – вышел томат…
Кто ж так пронзительно стонет на весь регион,
осознавая, что полон жратвы каземат? |