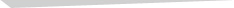Мне было десять лет, когда впервые
Я ощутил минуты роковые,
Что не по мне пришлась душа моя,
С тех пор она во мне не умещалась,
Она в слова и звуки воплощалась
Или летала в тёплые края.
И начало её двойное свойство
Во мне рождать глухое беспокойство,
Меж нами сеять смуту и вражду,
Она любила всё, что мне претило,
Она не признавала коллектива
И не желала привыкать к труду.
В семнадцать я решил — довольно, хватит,
Настал мой час, она за всё заплатит
И я зажал её в немых тисках,
Я днём бродил с ней, тих и беззаботен,
А по ночам таскал из подворотен
И распинал на глянцевых листках.
Мой любовь ей не пришлась по вкуса,
Она и в страсти праздновала труса,
Беря на душу самый тяжкий грех,
Я от друзей и женщин отрекался,
Я от бессильной злобы задыхался,
Она смеялась на глазах у всех.
А в двадцать пять моя душу пропала
И путалась два года с кем попало,
А я бледнел и даже клял Творца,
Потом пришла, забитая, худая,
И заявила, как сова, рыдая:
«Жестокий век, жестокие сердца»...
Я помню, к тридцати она смирилась,
С ней что-то непонятное творилось,
Моя душа поддакивала мне,
И вот тогда, поверив ей, как другу,
Я с ней пошёл по Дантовому кругу,
Да так и сгинул в адовом огне.
Теперь я уличил её в коварстве,
Но поздно, я пою в подземном царстве,
Среди безмолвных, призрачных теней,
Я там прочёл на каменных скрижалях,
Что знанья скорбь людскую умножают
И от того-то души нас сильней,
Вот потому-то души нас сильней… |